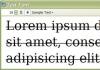Уллубий Даниялович Буйнакский (27 августа (8 сентября) 1890 - 16 августа 1919) - революционный деятель Дагестана начала XX века.
Родился в селе Уллу-Буйнак в семье потомственного дворянина (сын кадрового военного - подпоручик), по национальности кумык. Учился на юридическом факультете Московского университета. Член РСДРП с 1916 года, за что был исключен из вуза.
После Февральской революции вёл партийную работу в Хамовническом районе Москвы. В ноябре 1917 возглавил военно-революционный комитет Петровск-Порта. С апреля 1918 член Областного Военно-Революционного Комитета, трансформировавшегося в июне в Областной Исполком Советов, где Буйнакский исполнял обязанности заведующего юридическим отделом. В конце июля 1918 г. руководством Облисполкома был откомандирован в Москву откуда вернулся в конце января 1919 г. За этот период советская власть в Дагестане пала под ударами, вторгшегося на его территорию по планам Антанты полковника Л. Бичерахова.
Нелегально прибыл в Дагестан и добрался до высоты Уллу-Тау (под Кумтор-Калой) где в подполье функционировало правительство (Облисполком) во главе с Д. Коркмасовым, в подавляющем большинстве состоявшее из членов «Дагестанской социалистической группы». В начале февраля была созвана Кумтор-Калинская Конференция. Ее целью в этих чрезвычайно сложных условиях гражданской войны в России, являлось решение вопроса о необходимости объединения всех партий и групп, стоявших на платформе Советов под единым началом РКП. С этими установками, полученными в центре, и прибыл У. Буйнакский для созыва партийной конференции (упоминается также в источниках и как съезд). На ней был образован Дагестанский Обком, в состав руководящего Президиума которого вошли и члены самораспустившейся «Дагестанской Социалистической группы». Председателем Обкома был избран У. Буйнакский. На этой же конференции, работавший в подполье Обл. Исполком был преобразован в правительственный орган - Военный Совет во главе с Д. Коркмасовым, в задачи которого входила организация борьбы с интервенцией.
В это время в Дагестане функционировало заседавшее в Темир-Хан-Шуре с осени 1918 г. и совершенно непопулярное в народе так называемое Горское правительство. В апреле 1919 г. с севера на территорию Горского правительства вторглись проантантовские войска генерала Деникина, устремившиеся на Шуру. Правительство переполнявшееся внутренними противоречиями, тем не менее, выступило против агрессора. Однако, это противостояние вражескому вторжению никакого успеха не имело, а после провальных переговоров с Деникиным в Хасав-Юрте и, главным образом, измене части членов Правительства, перешедших на сторону врага, стало ясно - дни его сочтены и оккупация неизбежна. В этих условиях, будучи полностью отрезанными от центра РСФСР, было решено сговориться с членами Горского правительства, ориентированных во имя Автономии на Москву (Р. Капланов, С. Дударов и др.) и выступить против Деникина единым фронтом. Осуществление этих планов совмещалось с намеченной на май десантной операцией Красного флота, вышедшего к берегам Дагестана со стороны Астрахани. В этой связи, на 13 мая 1919 года было назначено заседание Военного Совета и Даг. Обкома. Однако, по доносу провокатора, оно было провалено. Благодаря предательству части членов Горского правительства, перешедших на сторону Деникина, в Шуре было посажено проденикинское правительство, другая его часть (Р. Капланов и др.), также как и члены Военного Совета и Даг. Обкома были арестованы.
Избежавшие ареста члены Военного Совета во главе с Д. Коркмасовым, восстановив его деятельность на Левашинских высотах и сгруппировав свои отряды, поддержанные отрядами Шейха Уль-Ислама Али-Гаджи Акушинского, повели наступление на Шуру. Однако, две наступательные операции на областную столицу, начатые с Кызыл-Ярских высот, в ожесточенных сражениях с хорошо оснащенными и отмобилизованными кадровыми частями противника, потерпели поражении. Войсковая десантная операция, планировавшаяся в поддержку повстанцев с моря, также сорвалась вследствии поражения от английской эскадры в Каспийском море у форта Александров. Арестованные 13 мая члены Военного Совета и Даг. Обкома, включая самого У. Буйнакского, находившиеся под стражей, 10 (23 июля) были преданы военно-шариатскому суду и по его приговору в августе того же года расстреляны в районе станции Темиргое.
Уллубий Буйнакский (1890-1919)
В паспорте, случайно нам попавшемся, шаблонно значилось:
Имя: Уллубий
Отчество: Даниялович.
Фамилия: Буйнакский.
Время рождения: 1890 г. августа 28 дня.
Звание: из бекского сословия.
Вот и всё, мало что говорящее о человеке, который так много значил для Дагестана:
Тов. Буйнакский действительно родился в 1890 году в селении Большой Бойнак, теперь Махачкалинского района, а до революции входившее в Темир-Хан-Шуринский округ. Отец его, чиновник из беков, непризнанных полудворян, служил по администрации на незначительных должностях.
По имеющимся у нас данным, крупные "акулы" - родственники Уллубия, кровные беки при дележе родового имущества сумели небольшого чинушу Данияла Буйнакского обделить так, что тот только имел возможность на существование, а когда умер отец, и остался крохотный сын Уллубий, его уже целиком проглотили "милые родственники" по всем бекским традициям: не щадить слабого ни близкого, ни дальнего. Спасением для мальчика оказался пансион Темир-Хан-Шуринского реального училища, куда его приняли благодаря службе отца. Товарищи, учившиеся с ним и знавшие его в ученические годы, рассказывают, что в подготовительном классе реального училища, куда определили Буйнакского, он был самым маленьким и по возрасту и по внешнему виду. Товарищ Н. Султанов рассказывает о том, как в пансионе не могли подобрать Уллубию форменного костюмчика и как комично выглядел он в больших сапогах, огромном казённом картузе, закрывавшем глаза, и в длинной блузе до колен.
Мальчуган был шустрый, шалун, но способный. Будучи сам крошечным, он производил столько шуму в классе, что учителя останавливали его замечаниями:
Буйнакский, ты буйный! Такой маленький и так много шумишь!
С переходом в первый класс он был переброшен в город Ставрополь в мужскую гимназию, где существовали казённые стипендии для горских детей и где старый режим пытался, бронируя от жизни, в стенах пансиона готовить прислужников своей инородческой политике на Кавказе. Но как раз Ставропольская гимназия больше всех подвела старый режим и горько посмеялась над ним. Она оказалась, не в пример Темир-Хан-Шуринскому реальному училищу с его горским пансионом, чуть ли не революционным очагом. В 1906 году, за не в меру усердное участие в революционном движении учащихся, пансион при Ставропольской гимназии был закрыт, и все ученики, в качестве штрафных, были разбросаны по другим учебным заведениям. В итоге таковой операции Буйнакский попадает в Тифлисскую гимназию, где обучается с 5-го класса по 8-й, и кончает ее в 1910 году.
Окончив гимназию и поступив в Московский университет по юридическому факультету, Уллубий отдается со всем присущим ему пылом занятиям, и в частности, внекурсовым, посещая библиотеки, музеи, изучая Восток, Кавказ и Дагестан как в историческом, так и в социально-экономическом отношении. Почти ежедневно можно было встретить Буйнакского или в фундаментальной библиотеке университета, или в библиотеке Румянцевского музея за толстыми фолиантами книг и журналов, за материалами о Кавказе и Дагестане. Но не успел он пробыть в университете и одного года, как начались, так называемые тогда, "студенческие беспорядки", в которых Уллубий не мог не принять, по складу своего характера, участия.
В ответ на уничтожение автономии высших учебных заведений вновь назначенным министром народного просвещения Кассо радикальная часть студенчества объявила в 1911 году забастовку. Либеральная профессура ушла из вузов, а более реакционные профессора-чиновники остались, пытаясь поддерживать нормальные занятия. Студенчество решило путем обструкций заставить и этих чинуш науки прекратить чтение лекций и этим приостановить вовсе занятия в университете. Во время одной из таких обструкций тов. Буйнакский, совместно с другими "обструкционистами", был переписан полицией, и, примерно через неделю после того, по распоряжению министерства народного просвещения уволен из университета, а министром внутренних дел выслан из Москвы без права жительства в университетских городах, т. е. фактически лишен права продолжать свое высшее образование.
В связи с этим у него возникает мысль о поездке за границу,- хотя бы в ближайшую к Кавказу Турцию,- для продолжения образования. С помощью товарищей набирается некоторая сумма денег, достается письмо к одному из профессоров Константинопольского университета, и Буйнакский выезжает из России. Однако, не успев доехать даже до Константинополя, чуть ли не из Эрзерума, он возвращается обратно в Тифлис. Порядки дореволюционной Турции удручающе подействовали на него, и он решает, что в такой стране невозможно не только учиться, но и жить. Вернуться в Тифлис обратно в его положении безработного, выгнанного из университета и высланного полицией студента, значило влачить полуголодное существование, но энергичный и нетребовательный в отношении жизненных благ Уллубий решительно отказывается от помощи богатых родственников и живет грошевыми заработками на даваемые уроки.
Лучше умру голодной смертью, чем обращаться к этим буржуям-сановникам,- пишет он к одному из своих друзей.
Так, между голодом и холодом, в погоне за уроками, не покидая, однако, работы над собой, жизнью репетитора живет он до 1914 года, когда при помощи профессора Московского университета Гидулянова, интересовавшегося Дагестаном и имевшего научные работы по Дагестану, Уллубию удается поступить вновь на юридический факультет Московского университета. В Москве одновременно с учебой он зарывается вновь в общественную работу в студенческих организациях. Не выходя из обстановки хронического недоедания в течение последних лет, Буйнакский в этот период выглядел чрезвычайно истощенным и болезненным. Это обстоятельство, однако, не мешало ему долею своих студенческих заработков делиться между собратьями по голодовке. Ибрагим Алиев рассказывает об одном трогательном эпизоде такого дележа.
Однажды,- вспоминает Алиев, - после посещения Уллубием моей комнатушки, я обнаружил у себя в пальто некоторую сумму денег. Удивленный находкой, я долго не мог себе объяснить происхождение денег, пока, наконец, не выяснилось, что нищенствующий Буйнакский, узнав, что в те дни я сидел без гроша, не решаясь открыто предложить свои копейки, вложил их в карман моего пальто потихоньку.
В таких приблизительно условиях застает Уллубия в Москве февральская революция.
Подготовленный уже предшествующими годами к восприятию революции и еще в 1916 году в своих речах призывавший мобилизованных студентов Петровско-Разумовской академии обратить свое оружие против существующего строя, Уллубий весь отдается революционному движению, являясь на первых порах в Москве одним из организаторов отрядов по борьбе с контрреволюцией. Однако после первых же "пьяных" месяцев февраля потянуло на Кавказ, в Дагестан посмотреть, а то и самому "сделать" самую революцию.
Так во второй половине 1917 года трое студентов-москвичей, будущих коммунаров: Уллубий Буйнакский, Гарун Саидов и Ибрагим Алиев со своим тощим багажишком очутились на вокзале тогдашнего Порт-Петровска.
Уллубий, не задерживаясь в Петровске, прибыл в своей знаменитой чёрной крылатке (порыжевшая от времени суконная накидка с капюшоном) в Темир-Хан-Шуру, когда-то тихую-тихую, а теперь пытавшуюся революционизироваться. К его приему тут же развертывались вовсю бои дагестанской Социалистической группы с шариатским блоком дагестанских помещиков, буржуа и духовенства. Орган шариатского блока-Дагестанский национальный комитет и его шуринский подголосок - Джамиатул исламиэ (Общество исламистов) уже организовывали национальную милицию для защиты интересов своих и сочленов. Крестьяне готовились к захвату помещичьих земель и только ждали удобного случая. На Социалистическую группу и вообще на социалистов "вешали всех собак", обвиняя их во всех смертных грехах, нарушающих "лучшие добродетели ислама".
"- Они и вероотступники, они и против шариата, они за общность жен и дележ их, они, в общем, хуже всякого гяура неверного и убить одного из них все равно, что убить сорок гяуров в бою и прямо живехоньким влететь в рай".
По натуре вдумчивый, знавший всю сложность дагестанской обстановки, Уллубий занял временно выжидательную позицию, присматриваясь к совершающимся событиям и не вмешиваясь в активную политику. Вокруг него образовалась группа молодежи, частью студентов, частью из местного актива, которая, казалось, с одной стороны, была занята поисками своего "я" и его места в революции (самоопределением), а с другой-культурно-просветительной и общественной работой в широком смысле этого слова. Тут были: М. Далгат, Гарун Саидов, Булач, Батырмурзаев, Мусаев и еще несколько человек. Этот кружок, во главе с Уллубием, сочувствуя Дагестанской социалистической группе, все же не решался слиться с ней, боясь потерять чистоту большевистских принципов, которые к этому времени уже полонили Уллубия 1) , как идейного руководителя молодого кружка. Не доставало только организационного оформления и действия.
Уллубий понимал, что в обстановке тогдашней Темир-Хан-Шуры и шариатского воя в горах идти с большевистскими лозунгами в массу без всякой опоры кругом- значило бы, в лучшем случае, погибнуть и при том без всякого политического эффекта. Поэтому некоторое время он пытался вообще сдерживаться и в политическую жизнь активно не вмешиваться. Но выдержки хватило не надолго. В сентябре месяце он перебрался в Петровск-Порт. чтобы с головой окунуться в самую гущу политических событий.
Мещанская чиновничья Шура не могла отвечать ни в какой степени настроениям Уллубия. Была и другая причина переезда в Петровск. В то время как в Шуре против Национального комитета вела довольно успешную борьбу Дагестанская социалистическая группа, в Петровске образовался по главе с кулаками Таркинского участка и мусульманской городской буржуазией так называемый Народный мусульманский комитет, пытавшийся представительствовать и действовать в революции от имени местного крестьянства. Революционные организации Петровска через слуховое окошко получили явно превратное представление о пульсе жизни крестьянского населения, окружающего город. Отчасти под влиянием этого освещения строилась крестьянская политика. Вот против этого "красивого зеркала" революции и был направлен первый удар Уллубия в Петровске.
Совместно с местной группой большевиков: Ибрагимом Алиевым, Джалалэддином Атаевым, Джамалэддином Магомедовым (умер в тюрьме в 1919 году), Гаруном Саидовым и Гамидом Далгат он повел наступление и успешной агитацией и верной постановкой вопроса сумел добиться перевыборов комитета и захватить комитет в большевистские руки.
В своем новом составе Комитет мог уже с гордостью носить звание "народного", но и Народный комитет все же не был самоцелью Уллубия и возглавляемой им группы. Мусульманским комитетом нужно было овладеть только для того, чтобы через некоторое время его закрыть как рупор мусульманской буржуазии, пытавшейся говорить от имени крестьянства.
Наиболее верным способом для этого, при невозможности действовать вооруженной силой, было мирное овладение Комитетом с расчетом, чтобы затем, повесив замок, поставить крест на существовании и самого Комитета.
Под флагом Комитета удалось все же однажды оказать услугу и Дагестанской социалистической группе в Шуре. В январе 1918 года на Темир-Хан-Шуру нагрянули Нажмутдин Гоцинский и Узун-Хаджи с десятьютысячной армией горцев для провозглашения имамата Гоцинского. От имени Народного комитета был сколочен отряд из Таркинского участка и с красными флагами в противовес зеленым Гоцинского прибыл в Шуру. Петровские революционные организации, по тактическим соображениям -боязни национального антагонизма, не решались вмешиваться вооруженной силой в этот поход Гоцинского и потому был выпущен на сцену Народный комитет, от имени которого происходила как вербовка отряда, так и посылка его в Шуру. Помощь эта свою роль, в смысле перелома настроений прибывших с Узун-Хаджи горцев, сыграла. Но вернувшемуся с этого "похода" Уллубию стала уже с несомненностью ясна необходимость организации своей вооруженной силы, без чего революция не могла сделать ни одного шага вперед.
Оказалось, что в Дагестане контрреволюция раньше поняла смысл революции и успешно заблаговременно вооружалась. Революционному лагерю надо было, не мешкая, следовать за противником и тоже спешно вооружаться и противопоставить бекской милиции, имамским войскам и дагестанским конным полкам с их офицерством свою вооруженную силу.
В Петровском Военно-революционном комитете, возникшем в декабре 1917 года по инициативе местной большевистской группы во главе с т. Буйнакским, был поставлен и разрешен в положительном смысле вопрос о необходимости организации постоянных воинских частей.
Став во главе Военно-революционного комитета и чувствуя на себе тяжелейшую ответственность, Уллубий энергично, но продуманно, ведет работу по большевизации, в первую очередь, города, а затем и пригородных аулов Таркинского участка. Правда, за "повешенный" замок на мусульманском комитете Уллубию изрядно досталось от национальной буржуазии, кулачества, но при создавшейся обстановке враг был бессилен что-либо сделать против совершившегося факта.
Основной задачей Военно-революционного комитета стала организация вооруженной силы. Из тактических соображений решено было приступить к организации интернационального полка, состоявшего из всех национальностей с преобладанием горцев. Средства и оружие частью получались из Баку от Военно-революционного комитета, а частью изыскивались в Петровске путем обложения буржуазии и предприятий. Была установлена связь с близлежащими советскими организациями Астрахани, Ставрополя и Баку. Был отобран печатный орган у городской думы, который, будучи переименован в "Дагестанского труженика", стал органом Военно-революционного комитета.
Вследствие новизны дела большевизаций и отсутствия работников, знающих и горящих активностью, Уллубию приходилось работать за нескольких. Он организовал полк, он же писал, по словам первого редактора этой газеты Ибрагима Алиева, чуть ли не всю газету целиком. Был установлен контроль над производством текстильной фабрики "Каспийская мануфактура", принадлежавшей Тагиеву в компании с дагестанской буржуазией и другими производствами. К сожалению, работа Военно-революционного комитета была прервана на полуслове.
Уже в марте месяце 1918 года стал намечаться поход шариатского блока на Петровск и на Военно-революционный комитет. Закрытие Мусульманского народного и организация Военно-революционного комитета, сформирование интернационального полка, вмешательство в частную собственность (текстильная фабрика и проч.),- все это записывалось петровской мусульманской буржуазией во главе с шталмейстером двора его величества Асельдер-беком Казаналиповым на проскрипционную доску и имелось в виду в удобный момент призвать зарвавшихся "мальчишек" к ответу.
А сердиться было на что! Все планы мусульманской буржуазии рушились. Вместо своей национальной скорлупы, куда предполагалось уединиться со "своим народом" от революции и свести полюбовно (замазав массам глаза) счеты с крестьянством, приходилось выходить на общую площадь революции и открыто решать вопросы по воле революционных законов.
Этого-то и боялась больше всего петровская мусульманская буржуазия, которая обо всех "бесчинствах" петровских большевиков ежедневно информировала Дагестанский национальный комитет, находившийся в Шуре, подгоняя его на антибольшевистский поход против Петровска. Но и это понукание было излишним, так как Национальный комитет сам кипел контрреволюционной желчью и только собирал силы для похода на Петровск. Наконец, в марте 1918 года поход этот был подготовлен. Однако, чтобы не быть обвиненным в "большевизме справа", руководители шариатского блока и Национального комитета дело обставили по всем правилам дипломатии. Обсудив у себя в Национальном комитете положение дел в Порт-Петровске и вынеся решение о нетерпимости для достоинства "дагестанского народа" такого положения вещей, при котором в дагестанском городе "самозванные мальчишки" именем Военно-революционного комитета дискредитируют дагестанскую центральную власть, производя самочинные действия, националисты вошли в Дагестанский областной исполнительный комитет (уже в законный орган власти) с предложением: ликвидировать Военно-революционный комитет в Петровске, распустить Интернациональный полк и установить в городе "должный законный порядок".
Запуганный шариатскими бандами Исполнительный комитет почти безропотно принимает это предложение (против голоса представителя Социалистической группы) и фактически объявляет войну и поход против большевизма под лозунгом восстановления нарушенной нормальной деятельности областной власти. Для проформы посылаются представители для переговоров с Военно-революционным комитетом в целях "мирного улажения вопроса".
Но решение одно - выполнение другое. Одновременно с мирной делегацией Областного Исполнительного Комитета шариатский блок, несмотря на протесты и самой делегации, грузит в поезд свою милицию, которая, якобы, едет до Кумторкалы, но преспокойно доезжает до Петровска. Вместо мирных переговоров получились грабежи с пожарами и перестрелкой. Оказалось, что не успели делегаты Исполнительного комитета встретиться с представителями Военно-революционного, как красногвардейцы интернационального полка сцепились с национальной милицией шариатского блока и завязалась катавасия-перестрелка по всему городу.
Буйнакский, извещенный из Шуры Социалистической группой через члена Петровского Совета тов. Немсадзе о готовящемся походе на Петровск и, обеспокоенный этим, в момент прихода поезда очутился на вокзальном телеграфе, для принятий необходимых мер предосторожности. Это обстоятельство, в связи е занятием национальной милицией вокзала, рождает среди красногвардейцев интернационального полка слух о том, что на вокзале арестован тов. председатель. Недолго думая, на телеграф влетает группа гвардейцев и, штыками прочищая путь, выводит Уллубия из неприятельского окружения.
Однако, не имея достаточного количества патронов и вооружения, Военно-революционный комитет вынужден был отказаться от вооруженной борьбы. Решено было составу Военно-революционного комитета, за исключением тех, которые оставлялись в Петровске для подпольной работы, садиться на пароходы, и отплыть в Астрахань и Баку с тем, чтобы, получив подкрепление, через пару недель, поскольку навигация уже была открыта, прийти обратно, но уже с вооруженной силой и для вооружения в Дагестане взаправдашней Советской власти.
Так достался Петровск шариатскому блоку и так кончился кратковременный период существования Военно-революционного комитета "первого созыва" во главе с Уллубием Буйнакским.
Но у Астрахани, находившейся на линии фронта, куда попал Уллубий, не так-то легко было получить боевую часть для "похода" на Дагестан. Помогли убеждения Уллубия, доказавшего необходимость овладения, по крайней мере, Петровском, который являлся транзитным пунктом для Советской России к советскому Баку.
С помощью астраханских товарищей Уллубию удается скомплектовать из молодежи, преимущественно татарской, отряд, который стал известен в Дагестане под именем отряда тов. Ляхова. В апреле месяце Уллубий во главе "советских ушкуйников" подходит к Петровску и, поддержанный бакинскими советскими эшелонами, высаживает под прикрытием судовой артиллерии десант и, выгнав господствовавшего в Петровске имама Гоцинского, вводившего среди граждан города шариат, занимает Петровск.
Это было первое занятие Петровска советскими частями и первое бегство "национальной армии" имама Гоцинского и шариатского блока из-под Петровска. На этот раз имам в своем отступлении еле удержался в Кумторкале с тем, однако, чтобы через две недели совершить наступление на Петровск со свежими силами и уже так отступить, чтобы не задержавшись даже самому в столице имамства -Шуре, прямехонько, без пересадки, бежать под богоспасаемую сень родного аула Гоцо.
Перед молодой большевистской организацией Дагестана и Уллубием стали задачи громадной трудности. Первое соприкосновение большевистской власти и красной гвардии с горцами Дагестана надо было обставить наиболее безболезненно. При натянутости нервов у обеих сторон и возможной провокации совершенно неожиданно могли возникнуть нежелательные для дела осложнения на национальной почве. Была нужда в твёрдой революционной власти взамен разбежавшегося "до лучших времен" Областного исполнительного комитета во главе с доктором Бамматовым и полковником Хаджи-Муратом.
Уллубий отбирает в Петровске из своего отряда наиболее надежные в отношении дисциплины части, преимущественно из татарской молодежи, и в Шуре, живущей ожиданиями большевистских ужасов, появляется вполне мирный отряд "мусульманской молодежи" и притом в фесках.
Как-то не приходило в голову в той обстановке спросить Уллубия, как появились фески на красногвардейцах? Действительно ли это обычный наряд татарской молодежи или они были специально приурочены для Дагестана? Помнится только, как сам Уллубий говорил, ласково и мудро улыбаясь:
Ждали с востока, из Турции фески, а мы дали с севера.
Но впечатление, во всяком случае, было огромное. Сразу разрядилась обстановка накаленности и наладилась прерванная было связь между аулом и городом.
Раз в фесках, так и большевики не страшны, почти свои.
И шли в город за хабарами новыми, сногсшибательными.
Организовав в Шуре Областной Военно-революционный комитет, Уллубий сам остался в Петровске, считая, что он должен остаться там, как в узловом пункте возможных конфликтов и взаимного непонимания. Во главе областной власти с большим успехом, по его мнению, могли стать представители Дагестанской социалистической группы, как и более опытные, так и более известные широким массам населения, поскольку сама Социалистическая группа стояла на советской платформе. Несмотря на то, что руководители группы в тот момент были вне Шуры (Махач Дахадаев был в Закавказье, а Коркмасов в Терской области - выручал несколько десятков тысяч баранты дагестанского крестьянства), в Военно-революционный комитет и, в частности, в его президиум был влит весь состав Социалистической группы. До приезда Коркмасова временным председателем был назначен Магомед-Мирза Хизроев, а Гарун Саидов и Тахо-Годи- его заместителями. Кстати: примерно через неделю вернулся Махач, а затем и Коркмасов с вырученной барантой, и за Шуру можно было быть спокойным.
В вопросе конструирования областной власти Уллубию пришлось истратить много энергии с руководителями отряда и фракцией большевиков. Те никак не могли понять, почему власть организуется не из большевиков, а из "неопределенной" Дагестанской социалистической группы. Только Уллубий своей тактичностью и мудростью безболезненно провел этот вопрос. За все время Советской власти этого периода в течение полугода Уллубий всё время являлся арбитром, буфером между Петровском и Шурой. Первый напор, бурное недовольство Петровского гарнизона, тогда составляющего общественное мнение воинских частей, Уллубий принимал на себя.
Помнится случай, когда мы с Коркмасовым приехали в Петровск за оружием, которое исполкомом было отпущено, гарнизон, вызвав Уллубия на свое собрание во дворе женской гимназии по Инженерной улице, закатил такой концерт, что, казалось, из этой атмосферы живым не выйдешь. Только удивительное спокойствие Уллубия, сумевшего в мирных тонах дать необходимые объяснения, разрядили обстановку гарнизонного собрания, обвешанного бомбами и гранатами. Тогда ведь каждый красногвардеец представлял целый пороховой погреб и мог взорваться и взорвать других с не меньшей, чем склад или погреб, силой.
Умиротворять бушующее море красногвардейцев в 1918 году,- а что это значило, может понять только очевидец,- бедному Уллубию приходилось чуть ли не каждый день. И эту обязанность он нес с присущей ему мудростью и, по крайней мере, наружным спокойствием и неизменной лаской во взоре, смотрящем прямо в душу человека.
Каких нервов и усилий ему это стоило, мог сказать только он. И при всем этом, для всех очевидно, что играя основную руководящую роль в советизации Дагестана, он умел оставаться в тени, как самый рядовой работник. Солдатская шинель, фуражка, стянутый по-горски стан... Уллубий был тот же красногвардеец, живущий таким же спартанцем, как и остальные бойцы.
Петровский исполком занимал дом Крайнева по Бассейной ул. В доме, до занятия его под Исполком, жил хан Тарковский, который, убегая, оставил в квартире чудеснейшие и мягчайшие пуховые постели. Приехавши в Петровск за оружием, мы с Коркмасовым удостоились ханских перин, но не могли уговорить Уллубия лечь туда. Он бросил тут же в комнате, где стояли эти роскошные кровати, свою шинелишку, подложил что-то под голову и, почти одетый, растянулся на полу. По-видимому, все это тревожное время он спал одетый, так как его и по ночам неоднократно вызывали то в какую-либо воинскую часть, то на телеграф, то еще куда-нибудь. Его уговаривали перейти в Шуру, в Областной исполком, для работы, но он неизменно отказывался. И это было, конечно, самое мудрое решение вопроса, так как в Петровске, в этом узловом пункте перекрещивающихся национальных отношений, его заменить никто не мог. Вероятно, это было ясно и для него.
Когда на молодую Советскую власть началось уже с июня 1918 года наступление с гор со стороны имама Гоцинского, офицерства и турок, и положение стало трудным, стала необходима помощь центра. Надо было обратить внимание, убедить центр в том, что Петровск-это подступы к Баку, ключ к бакинской нефти и потому его нужно сохранить в советских руках во что бы то ни стало. Лучшего посланца в центр для выполнения этой задачи, когда центр сам истекал кровью, чем Уллубий, трудно было найти, и товарищи вынуждены были пойти на такую жертву и лишиться в разгар военных событий в Дагестане Уллубия.
К несчастью для Советского Дагестана, темп событий оказался настолько быстрым, что Уллубий со своей помощью уже не мог помочь советскому Дагестану, так как полковник Бичерахов в августе месяце 1918 года ликвидировал Советскую власть, и Уллубию пришлось отсиживаться до более благоприятного момента в России. Однако, терять время было нельзя, да не из таковых был и сам Уллубий. Закончив в Москве все формальности, увязав организационно свои последующие действия, проведя соответствующие ассигнования на работу в Дагестане, он выезжает из Москвы в Астрахань, как в ближайшую советскую базу на подступах к Дагестану, для координирования своих действий с командованием XII Советской Армии, идущей на Северный Кавказ на помощь истекавшей кровью боевой XI.
Одновременно он принимает лично деятельнейшее участие в укомплектовании Дагестанского конного полка на Астраханском фронте, состоявшего из дагестанцев-добровольцев, отправленных молодым Советским Дагестаном в Астрахань в медовый месяц своей советизации.
Когда все мероприятия были налажены, условившись с товарищами-дагестанцами, работавшими на Астраханском фронте, и с командованием полка о предстоящей в Дагестане работе, выяснив маршрут свой через стан белых, Уллубий отправляется из Астрахани с несколькими товарищами и со всем своим "казначейством". О том, до чего тщательны были приготовления Уллубия и детальны его директивы перед отъездом, говорит такая трогательная мелочь, о которой рассказывал тов. Мамедбеков Керим. Уезжая, вспоминает тов. Керим, Уллубий очень просил не забыть вместе с дагестанским полком захватить и прекрасную библиотеку, которую при полку он же сам организовал. Чтоб быть уверенным в выполнении его директивы, он принял меры, чтобы при нем же библиотека была уложена в ящики и упакована.
Тут их так много, книг, а у нас совсем нет,- не грешно, если их перебросить в такую страну, как Дагестан,- говорил Улубий.
Так он и расстался с товарищем в Астрахани, надеясь через пару месяцев принять их на дагестанском берегу. Лично ему предстоял тяжелый путь через степи, буруны и болота. Описание одного этого путешествия с препятствием через стан белых, среди алчущих и жаждущих, с большими деньгами могло бы составить тему для целой повести. Мы не будем останавливаться, скажем только, что тов. Уллубий из неимоверных трудностей вышел с наименьшими затратами и благополучно через тысячу мытарств прибыл в Дагестан.
Прибыть-то прибыл, но куда?
Ведь официальный, легальный Дагестан для него был закрыт. Уллубий прибыл в подполье- в мир, для которого дерзание было смыслом жизни и вне его - смерть.
К сожалению, круг самого подполья был чрезвычайно ограничен. К моменту приезда Уллубия политическое положение в Дагестане приблизительно было таково. Так называемое Горское правительство, правительство помещиков и горских верхов, барахталось во взаимных склоках, межплеменных и персональных. Называя свое государство "Республикой Союза Объединенных Горцев", правительство фактически управляло только Дагестаном, так как остальные горские территории, признавая Советскую власть, и не думали о том, что кто-то заботится об их государственном бытии. Иные иронизировали над правительством, называя его правительством республики "разъединенных горцев".
Работники Советского Дагестана, ликвидированного в августе 1918 года, оставшиеся живыми после убийства Махача Дахадаева, жили в Дагестане частью в глубоком подполье, частью полулегально.
До приезда Уллубия центром дагестанского подполья являлось с. Кумторкала, около которого скрывался Дж. Коркмасов. Туда же заявился впервые и тов. Уллубий, где имел свидание с тов. Джелалом. С приездом Уллубия работа приняла иной оборот. Из состояния статического подполья жизнь принимает динамические формы. Оформляется партийная организация. Создается Дагестанский областной комитет большевиков, председателем которого Уллубий. Создается Военный Совет по организации вооруженных сил, и начинается планомерная работа по подготовке восстания и захвата власти, приуроченная к открытию навигации - к весне 1919 года. На этот раз на долю Уллубия выпала задача несколько иного рода. В период первой советизации в 1918 году под рукой была уже готовая вооруженная сила; дагестанское правительство в лице Областного исполнительного комитета само ушло, оставив столицу Советам, и тогда вопрос шел просто о конструировании органов Советской власти, охвате ими населения. Тут же надо было организовать и самую военную силу для захвата власти, и подготовить население к этому захвату и, вдобавок, разложить армию противника, чтобы уменьшить количество боевых схваток на случай вооруженного столкновения. Задача грандиозная, требующая сил и мыслей не одного десятка руководителей. К тому же время не медлило. Приближалась весна. В апреле открывалась навигация. Надо было быть готовым к этому моменту, когда вымпелы советской федерации покажутся на горизонте Каспия, дабы встретить их соответствующим образом.
И Уллубий развивает, казалось, несвойственную ему, человеку, похожему более на кабинетного мыслителя, энергию. Он летает под носом у агентов Горского правительства через Шуру в Чиркей, Доргели, Кадар, Кумторкалу, Казанище и т. д. Повсюду организована живая связь аулов с аулами, явки, тройки, которые своей цепью начинают охватывать почти половину активного Дагестана. Созываются пленумы Областного комитета партии, Военного совета: куётся Красная Армия, разлагаются войска Горского правительства, и дело доходит до того, что чуть ли не половина этих войск уже числится в списках Красной Армии.
Душа всей работы - молодой Уллубий со своей неизменной ласковой искоркой в глазах.
Помнится одно из наших свиданий этого периода. Это было приблизительно в середине апреля 1919 года. В селении Казанище собирался Областной комитет партии, и я вместе с Коркмасовым приехал специально повидаться с Уллубием перед своим отъездом в Даргинский округ на работу по организации "троек" и "пятерок". На этот раз он был особенно радостный. Был солнечный день, и на балконе дома одного из казанищенских товарищей мы беседовали с ним о перспективах.
Какими они у него были розовыми! Почти все готово! Со дня на день ждем сообщения о выходе флота из Астрахани! Уже получены сведения, что флот выходит, вышел, и чуть ли не на следующий день должен быть на рейде Петровского порта!
Я покинул его бодрый и радостный, сам зараженный искоркой его горения, и через несколько дней выехал в округ.
Туда, в самый разгар организационной работы, пришла убийственная весть об аресте Уллубия...
Не хотелось верить. Хотелось отмахнуться от сообщения, но приехали люди и подтвердили факт ареста.
Люди, называвшие себя горскими националистами и самостийниками, в последний момент хозяйничанья в составе Горского правительства, в память потомству не пожелали оставить ничего лучшего, как предательство интересов трудящихся своей страны. Председатель правительства Пшемахо Коцев, подавший в отставку, уже после своего заявления на другой день санкционировал арест Буйнакского!
Еще бы! Перед ним стоял вопрос о том, кто явится на смену ему - большевики или добровольцы, массы или генералитет.
Ясно, он выбрал генералитет: их превосходительства, поцелуи пухлых ручек генеральш и декольте по пояс, звон шпор и бокалов, красные лампасы, где он, бывший "президент", будет в почетном долгожданном плену, да еще с ореолом героя, уничтожившего гидру большевизма,- он предпочел стихийному восстанию крестьянской бедноты, красногвардейскому штыку, направленному в президентскую сторону.
Но известно, что долг всегда красен платежом. Коцев не ошибся расчетом. В награду за предательство он получил почетный титул "поставщика конского состава добровольческой армии". Интересы класса и коневодческое происхождение президента республики были удовлетворены,- тем более, что и цены поставки были "сходные" для обеих сторон.
Наметив схему короткой жизни и революционной деятельности тов. Буйнакского, вплоть до его ареста, прежде чем перейти к его дальнейшей судьбе, нам хотелось бы остановиться на обрисовке внутреннего мира тов. Уллубия и попытаться дать, хотя бы также схематически, обрисовку его духовного строя. Мы думаем, что нас простят, если для этого нам придется чуточку приоткрыть край и его интимной жизни, так как все данные, имеющиеся в нашем распоряжении, состоят исключительно из писем Уллубия к любимой им девушке-горянке. Письма эти нам с трудом удалось получить и с еще большим трудом буквально вынудить держателя их дать разрешение на опубликование некоторых выдержек из писем. Этим правом мы и пользуемся в данный момент.
Странное дело! Я перелистываю сейчас все эти семнадцать написанных химическим карандашом, четким убористым закругленным бисером, писем Уллубия до ареста и после ареста, из тюрьмы, и думаю о том, каким удивительным человеком он был. Как будто письма к любимой женщине писаны от бестелесного к бестелесной. Ни одного настоящего, как мы привыкли называть, любовного письма! Но все письма согретые любовью...
Из семнадцати писем все семнадцать посвящены вопросам борьбы и коммунизма. Из них в восьми говорится и о любви, но в тонах таких, как будто автор имеет дело с тончайшими изделиями, одно неосторожное прикосновение к которым может разрушить целое произведение искусства. В некоторые вкраплены и другие моменты, дополняющие облик Уллубия. Все суждения в письмах идут по линии большевизации любимой девушки на все сто процентов, без всяких "мостиков" позади. Перебросить ее в лагерь тех, кто жертвует собой во имя общего. Сделать ее из "без пяти минут большевички" - "стопроцентной, чистопробной"- вот стержень всех писем, согретых любовью и лаской, но говорящих о самых жгучих, нестареющих вопросах общественности и жизни.
Неопределенные стремления любимой девушки "ко всему хорошему" он старается оформить и дать им конкретный революционный выход 2) . (См. письмо третье).
"- ...буде вы сумеете кое-что сделать - делайте, но помните, мы, большевики, не молим, не просим контрреволюционеров,- мы заставляем их делать, что мы хотим".
Следующее письмо затрагивает вопросы программного характера, не решенные многими коммунистами для себя еще и поныне, и потому я привожу его почти целиком. В этом письме Уллубий отвечает своему адресату на выставленные им положения.
"1) Коммунизм "от корки до корки" или особый коммунизм для нашего народа".
"2) Я люблю свой народ от Магомы до Хасбулата".
"3) Я готов за всех страдать" (См. письмо второе).
Думается, что в этих суждениях, относящихся, заметьте, к весне 1919 года, немало поучительного и для нашего времени и не только для одних молодых коммунистов.
А вот продолжение и развитие вопроса, затронутого в предыдущем письме, о любви к своему народу. Это письмо написано из Петровской тюрьмы уже несколько месяцев спустя после первого и датировано 17 июля, - то есть уже после приговора, в ожидании казни. (См. письмо одиннадцатое).
И как бы отдавая дань личному после суждений об общем, кончает:
Если задумаюсь и замечтаюсь, то только о тебе, о смерти совсем не думаю, как будто ее и не существует".
Но, по-видимому, и того минимума "личного", что позволяет он в своих теоретических суждениях в этом письме, он не позволяет в жизни себе лично. Быть скупым в отношении себя, скупым до жестокости - вот его особенность. Даже любовь, которую он на протяжении своих 29 лет испытывает впервые, он корректирует сознанием. Одно из писем его из тюрьмы начинается стихом Алексея Толстого "Коль любить, так без рассудку" и продолжает словами.
"- Правда ли это. Так ли это должно быть? Я думаю, что это в нынешние времена требует корректива... Терять рассудок так, чтобы творить выходящее из круга моих убеждений, стремлений? Нет! Я определенно тебе скажу, что любовь, как бы она ни была сильна, должна несколько соответствовать моему мировоззрению, в противном случае я должен буду или вырвать ее из груди своей, или погибнуть".
Горячо любя девушку и признаваясь ей впервые, он боится и спешит предупредить, чтобы она знала, что и в случае ее отказа в любви - она и он останутся друзьями - сестрой и братом. (См. письмо пятое).
Письма выдают всю боль истосковавшейся по любви души. Но и при этом страстном желании иметь друга, он решает, что "если найду себя неспособным на счастье, дать счастье любимому существу, то я уйду, должен уйти с его пути".
Но, как неисправимый борец и политик, свою, даже личную любовь он связывает с мировой революцией.
"Я человек неисправимый, - пишет он, - не могу ни о чём думать, ничего желать, когда что-нибудь меня захватывает. Борьба наша близится к концу, весь мир объят пламенем пожара, нет уголка, где не было бы зарева нашего огня. И вот в такую минуту не только интересно, но любознательно, именно любознательно слышать, в унисон ли бьётся сердце человека, которого, может быть, больше чем только уважаешь".
И о лучших своих чувствах к любимому существу решается признаться целиком и полностью только перед смертью из тюрьмы. А когда мелькнет луч надежды на жизнь, он, как бы стыдясь своей минутной слабости, извиняется, просит прощения. (См. письмо десятое).
Сам мятежный, он во всем хочет видеть дух борьбы. Весной 1919 года, радостный по случаю освобождения арестованных товарищей, он готов "революционизировать" даже день самой "святой" пасхи. (См. письмо четвертое).
"Шлю также тебе привет в такой христианско-мифологический день (пасхи). Ведь, что ни говорите, идея воскрешения сама по себе удивительно красива. Мятущийся дух Человека не хочет уничтожения, не желает быть прахом и вот, будучи слабо вооружен, он не нашел ничего другого, как красиво обмануть себя. Ум человека, толкаемый немолчным духом, создает образы дивно-захватывающие. Пусть наука доказывает, что такого воскрешения нет и не может быть, но она, наука, всегда красоту достойно отмечает. Итак, долой все религиозные путы и заблуждения, да здравствует устремленность и беспокойство духа человеческого!"
И поэтому не случайно для его мятежной натуры, когда из тюрьмы он пишет:
"Знаете, никогда себя не испытывал я в таком подавленном состоянии, как в день, когда нас заковали". (См. письмо десятое). И чем дальше, тем больший протест против сиденья за железной решеткой в кандалах, когда столько сил и возможностей, слышится в его письмах.
"Ужасно то,- пишет он,- что весна, цветы, кругом должна кипеть работа, а я сижу в одиночке, без солнца, почти без воздуха".
И это в то время, когда тут, рядом, в Дагестане, так называемое правительство горцев ведет политику расслабления, развращения психологии дагестанского народа. (См. письмо седьмое).
Успокоение только в победных вестях, идущих с севера, где буйно носится по необъятным российским равнинам красный стяг советской федерации.
"Вчера и сегодня,- пишет он из тюрьмы уже 18 июля,- мы получили массу сведений из газет и записками. Это так радостно. (См. письмо двенадцатое).
На этом мы закончим просмотр писем тов. Буйнакского и обратимся к дальнейшему ходу событий.
После утверждения приказа об аресте Уллубия отставным президентом Пшемахо Коцевым, дом, в котором собрался Военный совет по Апшеронской (ныне Дахадаевской) улице, принадлежавший жителю города Темир-Хан-Шуры Абдул-Вагабу Гаджи-Магоме, по приказу командира Дагестанского конного полка был оцеплен частями полка во главе с ротмистром Измайловым, который приказал корнету Мехтулинскому войти в дом и произвести арест всех находившихся в доме. Их оказалось 9 человек: Буйнакский, Саид Абдул-Халимов, тов. Оскар (Лещинский), Абдурахман Исмаилов, Абдул-Вагаб, Гасан Нахибашев, Гоголев, Муртузали Османов и Тимушев. Всех арестованных под охраной двух эскадронов повели в тюрьму города, который волею Советской власти оказался переименован в память Уллубия Буйнакского из Темир-Хан-Шуры в город Буйнакск.
Не желая терять ни одной минуты и горя нетерпением выручить арестованных, оставшиеся на свободе товарищи с помощью окрестных аулов Дженгутай, Казанище, Доргели и Кадар предприняли наступление на Темир-Хан-Шуру с целью овладеть городом и освободить Уллубия. Однако наступление оказалось неудачным из-за своей неорганизованности и неподготовленности. Тогда правительство генерала Халилова, не надеясь на свои силы и даже опубликовав об этом объявление, решило перебросить арестованных большевиков в Петровскую тюрьму, где их охраняли бы уже прибывшие туда добровольческие части. Попытка освобождения арестованных по дороге в Петровск у станции Кумторкала также окончилась неудачей, и арестованные прибыли в Петровскую тюрьму. По словам самого Уллубия, "первое время он был выделен с русскими - тоже арестованными товарищами - потом сделали,- пишет он,- меня дагестанцем, затем засадили в одиночку, справедливо полагая, что я только всего-навсего Уллубий Буйнакский; ныне я опять дагестанец".
Грозно стоял вопрос неотложной возможности: освободить арестованных во что бы то ни стало, и задачу эту пытались разрешить различными путями и те, кто был на свободе, и те, кто сидел в тюрьме. Проектов было много. Думали похитить во время прогулки с помощью отряда красных партизан, который должен был подойти незаметно к тюрьме. Думали подкупить стражу. Но все проекты лопались. Были случаи мистификации и авантюризма. Об одном из этих случаев, морально убившем Уллубия, он сам пишет из тюрьмы тому же адресату:
"Простите, не думал, что причиню вам хоть какую-либо досаду; я говорю о том офицере, который оказался столь неблагородным. Я сейчас вам объясню все. На четвертый-пятый день после водворения нас в петровской тюрьме, был дежурным тот офицер-ингуш Льянов; он как-то разговорился со мной, выяснилось, что его двоюродный брат учился в Москве со мной в университете.
На следующее свое дежурство он принёс весть от другого ингуша, который предложил ему и своему родственнику, тоже офицеру батальона, как-нибудь освободить меня. Через Льянова я передал тому ингушу записку, где говорил, что я один не желаю бежать, быть освобожденным, оставив товарищей, как-то не по мне, в крайнем случае надо освободить 7-5-3 человека. Этим дело кончилось: по-видимому, они не сговорились, хотя нечего и говорить, что им была обещана большая сумма. Прошло некоторое время, тот же Льянов сообщил мне, что из Назрани прибыл человек с письмом от ингушского комитета и Саида Габиева с обращением к обоим офицерам-ингушам, где затрагивалась честь, национальное чувство и проч., в общем напоминалось, что они, если горцы, то должны во что бы то ни стало не выдавать меня в руки казаков, а устроить побег. Оба ингуша решили утащить все пулеметы батальона, выручить нас, или всех, или нескольких, или,- в крайнем случае, если нет иного выхода,- меня одного. Я тогда сидел в одиночке, а остальные товарищи в двух разных камерах. Значит, нужно было подготовить кое-что: передать несколько денег Льянову, чтобы он мог "ублаготворить" (как мерзко кругом, все держится на презренном металле. Разве это не больно?) своих разводящего и часовых, затем нужны были лошади и подводы для пулеметов.
Для конспирации нужно было, чтобы никто не знал и не был знаком с Льяновым. Как быть? Кругом такая продажность и подлость, что сказанное ближайшему товарищу делается известным чуть не всему миру... И вот тогда остался единственный человек - это были вы. Я решился написать вам. Извините, тысячу, тысячу прощений. Это не потому я говорю, что в вас самих я мог вызвать какую-либо горечь. Нет, вам было неприятно, что я доверился этому типусу. Но что делать, кому довериться? Он, негодяй, снял, оказывается, копию с моей к вам записки и показал ее еще другому офицеру... Что может быть хуже, подлее этого? Хорошая вы, смелая вы, так много нечистого, грязного кругом, что подчас делается жутко уже за себя - может быть вся эта грязь, подлость и проч., не во мне ли самом. Клянусь честью, всем, что мне дорого в жизни, я ни на минуту не колеблюсь умереть и готов пойти на худшее, но зачем я так несчастен? Что такое жизнь? Разве не умирали в тысячу раз лучше, смелее?".
В итоге этих неудач побег не мог состояться, и все арестованные предстали в Порт-Петровске в главном военно-шариатском суде по обвинению в том, что, "начиная с 1919 года на территории Дагестана, по уговору между собою и другими лицами, способствовали войскам Советской республики в ее военных действиях против Добровольческой армии и союзных с ней войск, для чего вели агитацию в пользу Советской республики, организовали Красную Армию, в которой Абдурашид Меджидов был главнокомандующим, Буйнакский был председателем Военного совета, а Саид Абдул-Халимов членом того же Совета, принимал меры к переходу на их сторону воинских частей Петровского отряда Добровольческой армии и к лишению города Порт-Петровска возможности защиты от неприятеля тем, что испортили подъёмные краны для гидропланов и пытались вынуть замки из орудий английских батарей и увести упряжных артиллерийских лошадей. В конце апреля и в начале мая организовали отряд красных для нападения на город Порт-Петровск, т. е. в преступлении, предусмотренном 13 ст. Уложения о Наказаниях и 3-й частью п. I и I ст. 108 Уголовного Уложения".
Процесс для Петровска был громкий. Судили не рядовых коммунистов. Перед судом стоял бывший председатель Порт-Петровского Военно-революционного комитета и исполкома, человек известный всей широкой рабочей и интеллигентной массе не только города, но и всего Дагестана. И поэтому каждый на процесс реагировал по-своему. Суд происходил в помещении Петровского Мирового отдела, что по Соборной улице (ныне улица Оскара №29).
Когда под усиленным конвоем 10 июля 1919 года тринадцать обвиняемых подходили к зданию, толпа уже запрудила вход. Пропускали на процесс только по билетам. Суд длился три дня. Состав суда,- из пяти человек, из коих четверо военных и один шариатский кадий, уже наверняка говорил об исходе процесса для главных виновников и в частности для Уллубия. Одна из работниц Мирового отдела того времени Казакова, внимательно следившая за процессом, передаёт некоторые интересные подробности судебного заседания.
Обвинял член военно-полевого суда полковник Н. Басин. Центральной фигурой процесса, конечно, был Уллубий, который на все вопросы суда и прокуратуры давал твердые ответы, не стесняясь в выражениях по отношению к суду, а также ко всем надеждам белогвардейцев на разгром революционного движения.
Басин видел неравного себе противника, как и сам он говорил, выходя во время перерывов и восхищаясь Буйнакским. Весь процесс Басин нервничал и волновался, вмешиваясь в порядок ведения дела, т. е. просил лишить слова подсудимого Буйнакского, указывал, что Буйнакский резко отвечает суду, что на задаваемые вопросы отвечает уклончиво и т. д. В противовес Басину, тов. Буйнакский держался очень спокойно, отвечал на вопросы твердо и на все попытки Басина сбить его не обмолвился о причастности к подпольной работе и организации хотя бы одного из сидевших на скамье подсудимых товарищей.
В ответ на громовую речь прокурора, требовавшего применения к обвиняемым высшей меры наказания - расстрела, так как, по его выражению, "если мы не уничтожим их,- они уничтожат нас",- Уллубий Буйнакский в своем последнем слове коснулся вопроса об угнетенных народах, о социальных и национальных неравенствах, волнующих человечество с момента возникновения капиталистического общества.
"Я знаю,- говорил он,- что меня ждет за мою попытку участвовать в разрешении этого вопроса, но я смело смотрю моей участи в глаза. Я сам добровольно, с полным сознанием содеянного, обрек себя на это. Я вырос в ущельях гор и хорошо изучил всю тяжесть положения горского крестьянина. Я с раннего детства посвятил свою жизнь всем обиженным массам и, в частности дагестанскому народу. Для них я и учился, чтобы быть сильнее в борьбе с вами. Вы расстреляете меня и еще тысячу, подобных мне, но ту идею, которая живет уже в нашем народе, ее вы не сумеете расстрелять. Я смело иду навстречу палачам и твердо уверен, что возмездие близко, и лучи освобождения проникнут в веками порабощенные ущелья гор Дагестана. Я не прошу снисхождения ко мне, освобожденный народ сам отомстит за всех погибших в этой, пока неравной, борьбе. Я твердо убежден в победе Советской власти и Коммунистической партии и готов умереть за их торжество".
Во время последнего слова суд сам и по ходатайству прокурора несколько раз призывал Уллубия Буйнакского к порядку, указывая, что он говорит не по существу, но У. Буйнакский не обращал внимания на замечания и спокойно продолжал свою речь, еще ярче подчеркивая близкую гибель насильников трудящихся и правоту большевизма. Некоторые присутствовавшие плакали, а после слов У. Буйнакского в зале суда раздались аплодисменты, которые председатель сейчас же прервал.
Спокойно выслушав приговор о расстреле, У. Буйнакский не дрогнул ни одним мускулом. При выходе из зала суда и из здания на улице столпившиеся рабочие, среди которых было много и местной интеллигенции, встретили У. Буйнакского аплодисментами и стали бросать ему цветы. Конвоиры, усердно разгоняя толпу, повели всех осужденных под конвоем в тюрьму. Уллубий Буйнакский шел впереди.
По прочтении приговора председатель суда, как бы в свое оправдание, объявил осужденным, что суд, приговоривший их к смерти, принимая во внимание, что все пять осужденных к смерти могли быть вовлечены "в совершенные ими преступные деяния неблагоприятным для них стечением обстоятельств и всеобщей разрухой и ввиду того, что являются людьми, недостаточно знакомыми с правилами ислама и шариата, не уяснившими себе, что ислам и шариат совершенно не допускают большевизма и не мирятся с ним, постановил: ходатайствовать перед правителем Дагестана о замене осужденным: Уллубию Буйнакскому, Абдул-Вагабу Гаджи-Магоме, Абдурахману Исмаилову, Саиду Абдул-Халимову и Меджиду Али-оглы смертной казни - каторжными работами без срока".
Какая злая насмешка! Шариат и ислам на службе у Добровольческой армии и англичан и ходатайство о бессрочной каторге перед марионеткой добровольцев - правителем Халиловым.
Но так или иначе "самостийное" Горское правительство начало, а бывший министр и председатель этого же правительства генерал Халилов, перешедший на службу к добровольцам (так было выгодно для него), закончил расправу с пятью коммунистами-горцами, желавшими дать горской бедноте возможность свободно вздохнуть от векового угнетения. Комедия оформления через "военно-шариатский суд" убийства - была закончена, оставалось учинить только расправу, т. е. убийство. За этим дело, конечно, не стало. Готовых рук было достаточно.
Но, по-видимому, и сами добровольцы не считали казнь Буйнакского с товарищами простым расстрелом и порядком побаивались срыва казни. Во избежание всяких случайностей, генерал Попов, главный начальник войск, действовавших в Дагестане, вызывает к себе начальника бронепоезда "Кавказец" капитана генерального штаба Сафонова и приказывает ему взять на себя с бронепоездом ответственность за расстрел. Очевидно, это предложение было характера необычного, так как Попов вынужден был предупредить Сафонова, что до исполнения этого приказа он должен будет задержать откомандирование капитана на место его новой службы в Таганрог, где Сафонова ожидало повышение. Вынужденный взяться не за свое прямое дело, Сафонов созывает офицеров, сообщает им в ночь перед расстрелом о задании и приказывает строго-настрого исполнять все его приказания и быть к ночи на местах.
18-го августа 1919 года в 3 часа ночи бронепоезд даёт тревожный свисток, экипажу отдается команда быть всем на местах готовыми к бою, с тюремной горы спускаются со звоном люди, закованные в кандалы, к вокзалу, окруженному частями особого отряда, и бесшумно скрываются в одном из вагонов бронепоезда "Кавказец". Это был Уллубий с товарищами.
В нашем распоряжении имеется записочка, написанная тов. Уллубием на вокзале, и письмецо, по-видимому, тоже написанное в ожидании казни все тому же адресату. (См. письмо шестнадцатое).
Впервые в письмах Уллубия мы встречаем слово "поцелуй", но и этот оказался предсмертным.
Последняя письменная весточка, которая осталась от Уллубия, это маленькая бумажонка, на которой каракулями, по-видимому, весьма наскоро и втайне начертано уже на станции Петровск, в вагоне бронепоезда:
"Дорогая, пишу в Петр(овске) на станции в вагоне, могу быть расстрелян. Ничуть не боюсь. Я вас люблю. Уллубий".
Чужая вражеская стальная смерть увозит его к месту последнего соприкосновения с землею. На перегоне Чирюрт-Темиргое, в степи, возле старинного кургана, тихо останавливается бронепоезд... Команда, готовая к бою (ей сказали, что в районе Чирюрта тревога и наступление красных), встречает только предрассветную трескотню просыпавшейся степи.
Посылаются казаки и ногайцы рыть могилы. По их возвращении раскрываются двери вагона-цейхгауза и оттуда выводят пятерых смертников в кандалах в окружении офицерско-солдатского караула. Дается возможность умыться, помолиться. Все умываются, часть молится. Уллубий только расхаживает и, по показаниям некоторых, курит. По истечении положенного срока "для приготовления себя к смерти", приговоренные в кандалах в одну шеренгу - впереди, а за ними цепью команда бронепоезда с ружьями наперевес двигается к могилам. Солдаты команды просили начальника бронепоезда снять кандалы с арестованных, в чём им было отказано. Идти в кандалах по полю было трудно, поэтому солдатская цепь, шедшая позади, или подталкивала осужденных, или оттягивала свои ряды.
Когда пришли к могилам, осужденных в ряд поставили против вырытых ям. Против них с ружьями наперевес 12 человек солдат, сзади солдат 25 человек казаков, а с правого и левого флангов стали офицеры с револьверами в руках. После команды "смирно!" начинается чтение приговора. По прочтении приговора вопрос: "нет ли у смертников пожеланий?" По показаниям солдат, участников расстрела (подробности расстрела-смотри дела Шнуркова и Зеленцова, Архив Главсуда и ГПУ за 1926 год), Уллубий просил сообщить близким место нахождения их могил и сказал, что он не винит солдат, исполняющих приказ, но настанет момент, когда те же дула, которые смотрят на них, обернутся на господ офицеров и те же пули поразят их.
"С этой мыслью я спокойно умру". Другой, как говорят те же свидетели, военный, по-видимому, Саид Абдул-Халимов, просил разрешения командовать самому расстрелом, в чём ему капитаном Сафоновым было отказано. По окончании опроса осужденным хотели завязать глаза, но все они отказались, заявив, что хотят умереть с открытыми глазами, как жили и работали.
Раздается команда капитана Сафонова:
"По арестованным пальба шеренгой - пли!" Один за другим три коротких залпа, причём после первого же залпа все осужденные, как подкошенные, валятся на землю.
Врачебный осмотр для констатирования смерти обнаруживает, что двое (Уллубий и тот, кто просил командовать расстрелом) ещё живы.
Кто знает? Не дрогнуло ли крестьянское сердце, одетое в солдатскую шинель, смотря в глаза тех двух, которые на понятном им языке говорили человеческие слова. Кто знает?
Факт только тот, что оба они были ещё живы после залпов команды в 37 человек.
Далее следует распоряжение капитала Сафонова хорунжему Зеленцову - пристрелить еще живых, и тот из карабина, взятого у солдата, несколькими выстрелами добивает тех, кого пощадила рука рядового солдата. Так погибли юные, лучшие... Погибли те, кто ещё не имел возможности, расправив крылья, совершить хоть один свободный полет над освобожденной землей, над землей, во имя которой они погибли. Молодые и юные, вся короткая жизнь которых была только первой строфою недопетой ими песни, была еще впереди в необъятных возможностях... И люди, чуждые, смотрели им в глаза и убивали их,- не зная и не думая, кого убивают и во имя чего...
Машина делает свое дело, а машинисты ошиблись в своих расчётах. Новые могилы рождали новых бойцов, готовых на смерть-на смерть, которая рождает жизнь, творит жизнь и очищает ее от всякой скверны, вносимой в нее господствующими классами и социально-национальным неравенством...
А после убийства над свежими могилами на Темиргоевской равнине - равнине, где могущественный владыка Востока хромой Тамерлан оставил свои кровавые следы, вновь сияло солнце, высоко звенели жаворонки и звенела вся степь, как бы славя над могилами смерть, творящую новую жизнь, и новую жизнь, возрождающуюся из смерти.
Примечания.
1) Но данным, приведенным в истории Московского университета, У. Буйнакский был членом РСДРП с 1911 г (см. История Московского университета. 1955, т. I, с. 542).
2) А. Тахо-Годи в 1928 г. некоторые письма небольшими отрывками ввел в научный оборот. Эти отрывки из текста А. Тахо-Годи мы опускаем, отсылая читателя к соответствующему письму:
| Буйнакский Уллубий Даниялович | |
| У.Д. Буйнакский | |
| 8(21) октября - июнь 1918 год | |
|---|---|
| 16 февраля - 13 мая | |
| Предшественник: | Должность учреждена |
| Рождение: | 8 сентября (27 августа)
(1890-08-27
)
с. Уллу-Буйнак Дагестанская область , Российская империя |
| Смерть: | 16 августа
(1919-08-16
)
(28 лет)
около станции Шамхал Дагестанская область , РСФСР |
| Партия: | РСДРП с 1916 |
| Образование: | учёба /был исключен/ на юридическом факультете Московского университета |
Уллубий Даниялович Буйнакский (27 августа (8 сентября) - 16 августа ) - революционный деятель Дагестана начала XX века.
Биография
Память
Улица Буйнакского (вариант Буйнакская) - название улиц во многих населенных пунктах Дагестана, а также в Астрахани , Ростове-на-Дону , Ставрополе , Грозном , ст. Червленной (Чечня), с. Кизляр (Северная Осетия), п. Ачикулак (Ставропольский край).
В честь Буйнакского в 1921 город Темир-Хан-Шура столица Дагестанской Республики была переименована в Буйнакск. Кроме того:
- Уллубийаул (быв. Бойнак) - село Карабудахкентског района Республики Дагестан - родина Уллубия Буйнакского
- Уллубиевка (быв. Новопокровка) - село Кумторкалинского района Республики Дагестан
- Уллуби-Юрт (быв. Новый Джелал) - село Нефтекумского района Ставропольского края
- Уллубий - с 1944 по 1957 г. название села Чурч-Ирзу Ножайюртовского района Чечни.
Напишите отзыв о статье "Буйнакский, Уллубий Даниялович"
Литература
- Магомедов Т. Т., Уллубий Буйнакский, М., 1968
- Тахо-Годи А. «», Даггосиздат, Махачкала, 1928 г.
Ссылки
- БСЭ :
Отрывок, характеризующий Буйнакский, Уллубий Даниялович
Говоря это, графиня оглянулась на дочь. Наташа лежала, прямо и неподвижно глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела только в профиль лицо дочери. Лицо это поразило графиню своей особенностью серьезного и сосредоточенного выражения.Наташа слушала и соображала.
– Ну так что ж? – сказала она.
– Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебе нельзя выйти за него замуж.
– Отчего? – не переменяя положения, сказала Наташа.
– Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня… оттого, что ты и сама не любишь его.
– А почему вы знаете?
– Я знаю. Это не хорошо, мой дружок.
– А если я хочу… – сказала Наташа.
– Перестань говорить глупости, – сказала графиня.
– А если я хочу…
– Наташа, я серьезно…
Наташа не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять повернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шопотом приговаривая: «январь, февраль, март, апрель, май».
– Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, – сказала она, оглядываясь на мать, которая нежным взглядом смотрела на дочь и из за этого созерцания, казалось, забыла всё, что она хотела сказать.
– Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, и, главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе, богатую; а теперь он с ума сходит.
– Сходит? – повторила Наташа.
– Я тебе про себя скажу. У меня был один cousin…
– Знаю – Кирилла Матвеич, да ведь он старик?
– Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить…
– Отчего же не надо, коли ему хочется?
– Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.
– Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Что за глупости! – говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.
– Ну не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. – Наташа улыбаясь поглядела на мать.
– Не замуж, а так, – повторила она.
– Как же это, мой друг?
– Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а… так.
– Так, так, – повторила графиня и, трясясь всем своим телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.
– Полноте смеяться, перестаньте, – закричала Наташа, – всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья… Постойте… – Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца – июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. – Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?…Узкий, знаете, серый, светлый…
– Что ты врешь! – сказала графиня.
Наташа продолжала:
– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухий – тот синий, темно синий с красным, и он четвероугольный.
– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь сказала графиня.
– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно синий с красным, как вам растолковать…
– Графинюшка, – послышался голос графа из за двери. – Ты не спишь? – Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.
Она долго не могла заснуть. Она всё думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть.
«Соня?» подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама, и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Всё, всё в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по другому.
На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.
31 го декабря, накануне нового 1810 года, le reveillon [ночной ужин], был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.
На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам, и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.
Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шопот и снимались шапки.
– Государь?… Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?… – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.
Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одевания.
Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.
Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.
В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.
Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее, с самого утра, были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque [по гречески].
Уллубий Даниялович Буйнакский (27 августа (8 сентября) 1890 - 16 августа 1919) - революционный деятель Дагестана начала XX века.
Биография
Родился в селе Уллу-Буйнак в семье потомственного дворянина (сын кадрового военного - подпоручик), по национальности кумык. Учился на юридическом факультете Московского университета. Член РСДРП с 1916 года, за что был исключен из вуза.
После Февральской революции вёл партийную работу в Хамовническом районе Москвы. В ноябре 1917 возглавил военно-революционный комитет Петровск-Порта. С апреля 1918 член Областного Военно-Революционного Комитета, трансформировавшегося в июне в Областной Исполком Советов, где Буйнакский исполнял обязанности заведующего юридическим отделом. В конце июля 1918 г. руководством Облисполкома был откомандирован в Москву откуда вернулся в конце января 1919 г. За этот период советская власть в Дагестане пала под ударами, вторгшегося на его территорию по планам Антанты полковника Л. Бичерахова.
Нелегально прибыл в Дагестан и добрался до высоты Уллу-Тау (под Кумтор-Калой) где в подполье функционировало правительство (Облисполком) во главе с Д. Коркмасовым, в подавляющем большинстве состоявшее из членов «Дагестанской социалистической группы». В начале февраля была созвана Кумтор-Калинская Конференция. Её целью в этих чрезвычайно сложных условиях гражданской войны в России, являлось решение вопроса о необходимости, на кануне созыва 8-го съезда РКП(б), в условиях интервенции и гражданской войны, объединения всех партий и групп, стоявших на платформе Советов под единым началом РКП. С этими установками, полученными в центре, и прибыл У. Буйнакский для созыва партийной конференции (упоминается также в источниках и как съезд). На ней был образован Дагестанский Обком, в состав руководящего Президиума которого вошли и члены самораспустившейся «Дагестанской Социалистической группы». Председателем Обкома был избран У. Буйнакский. На этой же конференции, работавший в подполье Обл. Исполком был преобразован в правительственный орган - Военный Совет во главе с Д. Коркмасовым, в задачи которого входила организация борьбы с интервенцией.
В это время в Дагестане функционировало заседавшее в Темир-Хан-Шуре с осени 1918 г. и совершенно непопулярное в народе так называемое Горское правительство. В апреле 1919 г. с севера на территорию Горского правительства вторглись проантантовские войска генерала Деникина, устремившиеся на Шуру. Правительство переполнявшееся внутренними противоречиями, тем не менее, выступило против агрессора. Однако, это противостояние вражескому вторжению никакого успеха не имело, а после провальных переговоров с Деникиным в Хасав-Юрте и, главным образом, измене части членов Правительства, перешедших на сторону врага, стало ясно - дни его сочтены и оккупация неизбежна. В этих условиях, будучи полностью отрезанными от центра РСФСР, было решено сговориться с членами Горского правительства, ориентированных во имя Автономии на Москву (Р. Капланов, С. Дударов и др.) и выступить против Деникина единым фронтом. Осуществление этих планов совмещалось с намеченной на май десантной операцией Красного флота, вышедшего к берегам Дагестана со стороны Астрахани. В этой связи, на 13 мая 1919 года было назначено заседание Военного Совета и Даг. Обкома. Однако, по доносу провокатора, оно было провалено. Благодаря предательству части членов Горского правительства, перешедших на сторону Деникина, в Шуре было посажено проденикинское правительство, другая его часть (Р. Капланов и др.), также как и члены Военного Совета и Даг. Обкома были арестованы.
Избежавшие ареста члены Военного Совета во главе с Д. Коркмасовым, восстановив его деятельность на Левашинских высотах и сгруппировав свои отряды, поддержанные отрядами Шейха Уль-Ислама Али-Гаджи Акушинского, повели наступление на Шуру. Однако, две наступательные операции на областную столицу, начатые с Кызыл-Ярских высот, в ожесточенных сражениях с хорошо оснащенными и отмобилизованными кадровыми частями противника, потерпели поражении. Войсковая десантная операция, планировавшаяся в поддержку повстанцев с моря, также сорвалась вследствие поражения от английской эскадры в Каспийском море у форта Александров. Арестованные 13 мая члены Военного Совета и Даг. Обкома, включая самого У. Буйнакского, находившиеся под стражей, 10 (23 июля) были преданы военно-шариатскому суду и по его приговору в августе того же года расстреляны в районе станции Темиргое.
Память
Улица Буйнакского (вариант Буйнакская) - название улиц во многих населенных пунктах Дагестана, а также в Астрахани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, ст. Червленной (Чечня), с. Кизляр (Северная Осетия), п. Ачикулак (Ставропольский край).
В честь Буйнакского в 1921 город Темир-Хан-Шура столица Дагестанской Республики была переименована в Буйнакск. Кроме того:
- Уллубийаул (быв. Бойнак) - село Карабудахкентског района Республики Дагестан - родина Уллубия Буйнакского
- Уллубиевка (быв. Новопокровка) - село Кумторкалинского района Республики Дагестан
- Уллуби-Юрт (быв. Новый Джелал) - село Нефтекумского района Ставропольского края
- Уллубий - с 1944 по 1957 г. название села Чурч-Ирзу Ножайюртовского района Чечни.
Литература
- Магомедов Т. Т., Уллубий Буйнакский, М., 1968
- Тахо-Годи А. «Уллубий Буйнакский (1890-1919)», Даггосиздат, Махачкала, 1928 г.